
Путин: Экспорт вооружений принес России свыше 15 млрд долларов за год
Россия в течение 2025 года поставила продукцию военного назначения более чем в 30 государств.
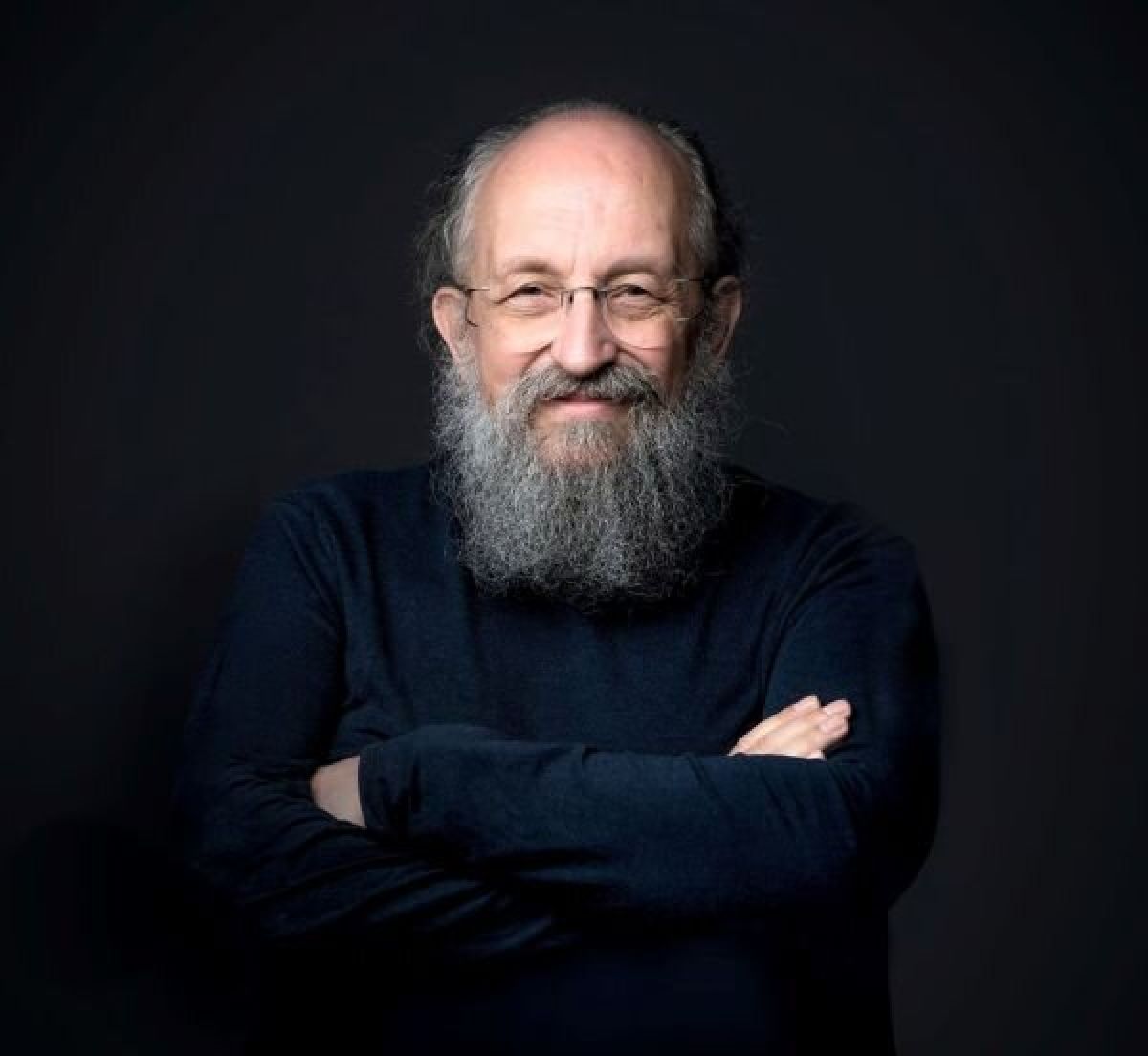
© Из архива А. Вассермана
В горбачёвские времена рынок у нас насаждали с тем же разрушительным энтузиазмом, с каким Пётр Великий приучал к табаку. Но у генеральных секретарей центрального комитета коммунистической партии было куда меньше власти, чем у царя (он же — император: царь — сокращение в старых русских рукописях прозвища Цезарь той ветки рода Юлиев, откуда более всех известен Гай Гаевич (100.07.12 до н.э.–44.03.15 до н.э.), первым в Риме удостоенный должности император — повелитель — пожизненно). Приходилось не только приказывать, но и придумывать доводы. В том числе и ложные, и лживые — заведомо для своих авторов ложные.
Одна из серьёзнейших проблем советской промышленности — запасные части производимых ею механизмов. Система планирования (и учёта результатов исполнения плана) ориентировалась на готовые изделия, и отдельных деталей для замены выходящих из строя чаще всего изрядно не хватало. Но ещё хуже, что с переходом на новое изделие обычно прекращался и выпуск запасных частей для снимаемого с производства: накопленная в хозяйстве техника выходила из строя куда скорей, чем если бы её было чем чинить, и скорости выпуска новой продукции зачастую не хватало для возмещения выбывания прежней. Одна из причин проблем советских танковых войск в начале Великой Отечественной войны: промышленность, осваивая Т-34 и КВ, перестала делать запчасти для предыдущих моделей, и к началу войны изрядную часть машин стало невозможно чинить даже снятием деталей с аналогичных — изнашивались они примерно одинаково, так что менять сломанное оказалось не на что.
Сложности с запчастями испытали на себе все обладатели советской техники. Естественно, все они поверили бьющим себя пятками в грудь рекламистам рынка, уверяющим: в системе, руководствующейся не планом, а заработком по принципу «за Ваши деньги — любой каприз», сделают кому угодно что угодно — в том числе детали сколь угодно древних машин. В числе достоверныых вроде бы примеров такой практики ссылались на коллекции старинных, но тем не менее успешно движущихся автомобилей и самолётов. Правда, сами коллекционеры ценят экспонаты тем ниже, чем больше в них доля новодельных компонентов, но современных изготовителей запчастей и впрямь немало.
Увы, те же коллекционеры знают: заказать новую деталь иной раз дороже, чем изыскать завалявшуюся на складе или в чьей-то кладовке старую. Ведь для точного воспроизведения нужно воссоздать всю технологическую оснастку (или хотя бы придумать иной способ точного соблюдения формы) и все технологические процессы — от соотношения компонентов для получения нужного сплава (легирующие добавки выгорают неравномерно) до режима фрезеровки, полировки, закалки… Иной раз первоначальный изготовитель работал без особой тщательности (как получится, так и применится), но современный копиист вынужден подробно разбираться даже в том, что в старину получилось случайно. Реставрация — всегда дорогое удовольствие.
Неколлекционной технике нужна не реставрация, а работоспособность. Заменить изношенное можно не копией старого, а новой модификацией. Конструкционная и технологическая преемственность позволяет довольно долго повышать эффективность давней конструкции свежими разработками. Например, Т-34 использовал коробку передач, унаследованную от серии БТ, начатой с лицензионной копии разработанного в конце 1920-х американским конструктором гоночной техники Джоном Уолтёром Джэйкоб-Бринкёрхоффовичем Кристи (1865.05.06–1944.01.11) колёсно-гусеничного (для сохранения на перегонах ресурса гусениц, быстро изнашивавшихся до того, как в середине 1930-х их начали делать из устойчивого к истиранию высокомарганцовистого сплава Хэдфилда) быстроходного танка. Коробка, созданная для двигателя в пару сот лошадиных сил, при пятистах изнашивалась стремительно, да и усилие переключения непомерно выросло. В 1943-м наши конструкторы ухитрились вписать в её корпус новую систему, да ещё с четырьмя передачами вперёд вместо прежних трех. Подвижность на поле боя резко возросла. Новые коробки ставили не только на вновь изготовляемые танки, но и на старые (в основном — при ремонте).
Увы, запас на модернизацию любой конструкции ограничен. В современных наших танках вследствие дальнейшего роста мощности двигателя коробка передач столь отличается от созданной Кристи, что и корпус радикально иной, и крепится иначе… На Т-34 её уже не пристроить. При ремонте исторических экспонатов, участвующих в съёмках и парадах, приходится реставраторскими приёмами — и по реставраторским же тарифам — кустарить (не подумайте плохого: наше слово «кустарь» выросло из немецкого корня kunst — искусство) нечто сходное с первоначальной конструкцией.
Полагаю, на направлениях, знакомых мне ещё меньше, чем создание танков и пользование ими, технические и экономические закономерности примерно те же. По мере совершенствования новых разработок уменьшается их совместимость с прежними. Те всё сложней модернизировать, чтобы сохранить их конкурентоспособность. Приходится заменять их новинками. Парк действующих древностей сокращается. Изготовлять замену изнашивающимся их элементам становится бессмысленно по высокопроизводительным технологиям. А низкопроизводительные существенно дороже в расчёте на единицу продукции. Сохранять в работе привычное старое всё разорительней не только по эффективности, но и по её соотношению с ценой.
Такая логика процессов не зависит от того, планирует ли производство каждый хозяйствующий субъект отдельно (что мы обычно называем рынком) или единая организация для всего хозяйства (что со времён первых теоретических трудов по социализму именуется планом). Правда, не уверен, что среди советских плановиков хватало понимающих её так же отчётливо, как умудрённый их опытом я. Вдобавок в первой половине советской эпохи производственных мощностей, ослабленных крайне узкой специализацией по ходу Первой и Второй фаз Мировой войны да ещё и разрушениями от боевых действий Гражданской и Великой Отечественной войн, явно не хватало для возмещения выбывающей техники, так что производство запасных частей к даже сильно устаревшему оборудованию было значительно актуальней, чем сейчас. Так что не исключаю, что решения о приоритете цельных изделий над запасными частями принимались прежде всего ради красоты отчётов. Но сейчас, накопив опыт рыночного хозяйствования, легче видеть, что и в те времена сохранение работоспособности всего накопленного встречало препятствия, порождённые не столько нерадивостью управленцев, сколько естественными, а потому практически непреодолимыми обстоятельствами.
Среди рекламистов безудержного рынка водились в товарных количествах не только профессиональные пропагандисты вроде внука писателя и сына журналиста, заведующего отделом экономики главного журнала правящей партии «Коммунист», Егора Тимуровича Гайдара (1956.03.19–2009.12.16), но и титулованные учёные, включая нескольких действительных членов отделения экономики академии наук СССР. Многие из них долго и вроде бы серьёзно исследовали не только отечественное, но и зарубежное хозяйство. Не очень мне верится, что никто из них не пытался сопоставить рассказы о грядущем разнообразии запчастей для всего сущего с реальным положением дел в странах, подлежащих профессиональному вниманию. Боюсь, куда вероятней, что их поведение описывают слова из песни брежневских времён: «партия сказала «Надо!» — комсомол ответил «Есть!»»
Впрочем, и до того труды по политической экономии социализма (в отличие от трудов по политической экономии капитализма, далеко не полных, но в целом логичных и непротиворечивых) по большей части сводились к пересказу и обоснованию недавних решений руководства правящей партии да сформированного ею правительства. Да и сейчас многие титулованные учёные, занимающие официальные должности, занимаются примерно тем же — разве что правящая партия другая и опирается не на коммунистическое учение, а на разработанные в противовес ему догматы тоталитарной секты «либералы». Мнения экономистов можно учитывать лишь как любые другие мнения, но не как однозначные указания на правильный путь.

Россия в течение 2025 года поставила продукцию военного назначения более чем в 30 государств.

С 1 февраля изменятся правила семейной ипотеки. Программа теперь ориентирована на семьи с детьми, ограничивая злоупотребления. Какие еще новшества ждут заемщиков?

Минфин предлагает ограничить месячный лимит наличных пополнений через банкоматы. Инициатива направлена на борьбу с «серыми» доходами. Когда закон вступит в силу?